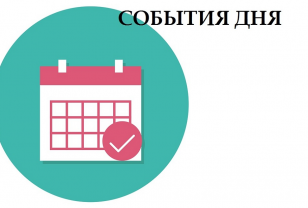Смоленск в первые три недели Великой Отечественной войны (часть 2)
Продолжение. Часть 1.
Президент России Владимир Путин 16 января 2025 года подписал Указ № 28 «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества». В тексте документа, в частности, отмечается, что Год объявляется «в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции».
В соответствии с Указом главы государства в Смоленской области был создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Его возглавил губернатор Василий Анохин. На первом заседании коллегиального органа стало известно, что в региональный план мероприятий, посвящённых Великой Победе, включено более 130 пунктов – образовательные, культурные, просветительские, концертные и фестивальные мероприятия.
Для редакции «Смоленской газеты» тема Великой Отечественной войны, героизма поколения победителей, безусловно, крайне важна, и на страницах издания регулярно публикуются интервью с ветеранами, статьи, основанные на архивных данных и воспоминаниях. В 2025 году эти материалы мы будем публиковать в рамках проекта «80-летию Великой Победы», рассказывая о героях и событиях Великой Отечественной – и о светлых днях освобождения нашей земли от оккупантов и Дне Победы, и о тяжёлых испытаниях военных лет, о цене, которую наши предки заплатили за свободу Родины.
«Каждый из нас хотел быть полезным Родине...»
Мобилизация студентов двух смоленских вузов для создания оборонительных рубежей состоялась в тот же день, 28 июня. Об этом сохранилось мемуарное свидетельство профессора Смоленского пединститута Даниила Иванович Погуляева: «28 июня по решению обкома партии студенты и преподаватели пединститута во главе с директором И.А. Михайловым вечером того же дня отправились пешим ходом на рытьё противотанковых рвов. Место указано в общей форме – на границе Краснинского района и БССР (Баевская волость). И студенты, и студентки пошли на работу налегке, без лопат. Преподаватели оставили свои семьи в подвале нового студенческого общежития около Управления железной дороги (севернее нынешнего проспекта Гагарина). Моя семья, как и многих других преподавателей, лишилась квартиры после первых налётов вражеской авиации. Мне особенно жалко было оставлять маленького Юрку, которому шёл четвёртый месяц.
От 6-го общежития, куда к 19 часам прибыли преподаватели и студенты, двинулась большая колонна по направлению к Краснинскому большаку. Когда мы отошли от города на несколько километров, заходило солнце. Обернувшись, мы с высокого места увидели в лучах солнца город Смоленск. Он показался нам таким неописуемо красивым. Защемило на сердце. Отошли примерно на 12 километров от города и решили заночевать. Устроились в каких-то пустых сараях. Не все сразу заснули. Помню, мы с Алексеем Ивановичем Климовым и Иваном Абрамовичем Михайловым устроились около стены. Через щели проникал к нам свежий воздух. Долго говорили.
Ночью кто-то, выйдя из сарая, увидел пожар в Смоленске и всех нас разбудил. Мы увидели пожар в Смоленске. Казалось, он совсем был близко. Его окружало огромное зарево. Мы – преподаватели – боялись за свои семьи.
Скоро наступило утро. Кое-как позавтракав (с собой мы захватили бутерброды), мы снова образовали колонну и двинулись по тому же большаку, по которому шли, по направлению к Хохлову. Не доходя до Хохлова, встретили немецких солдат, переодетых в нашу форму. Их грузовая машина стояла недалеко от дороги. Командир спросил нас на ломаном русском языке – далеко ли до деревни Уфинья. Мы сказали далеко. И сейчас же послали в Хохлово трёх студентов, которые передали в сельсовет, что рядом с ним находятся немцы. В сельсовете сказали, что об этом они знают и уже по телефону передали в Смоленск, чтобы оттуда выслали вооружённых людей.
Вторую ночь заночевали в Красном – в школе. Рано утром мы по разным дорогам с группой студентов пошли на свой рубеж. К вечеру дошли до места работы. Интересно отметить, что на месте были уже инструктора-сапёры и колхозники, которые привезли с собой лопаты и продукты питания для нас. На следующий день мы приступили к работе. У меня была отдельная группа студентов. Работа продолжалась две недели – с 28 июня по 13 июля. Над нами летали самолёты противника. На наших глазах сбито было несколько наших самолётов.
Настроение было, в общем-то, бодрое. Каждый из нас хотел быть полезным Родине. Погода стояла хорошая. Норму все выполняли к вечеру. Работавшие с нами колхозники задавали вопросы, что делать, когда немцы придут. Мы каждый день посылали студента в Баево принимать радиопередачи, узнавать новости. 4 июля наш студент слушал выступление Сталина и передал содержание его речи. Все мы почувствовали, что война предстоит тяжёлая и длительная.
11 июля я получил предписание облвоенкомата явиться в Смоленск для отправки в воинскую часть. Шёл я ночью с доцентом Шнейдмюллером и его женой. Ночь была светлая (лунная). По дороге к Красному шли войска поротно. На машинах ехали врачи и медицинские сёстры. В одной из деревень мы решили отдохнуть до утра. Оказалось, что в этой деревне остановились на ночлег студенты Воронежского университета. Они совсем были легко одеты. Их послали в Смоленскую область на рытьё окопов и противотанковых рвов. Они спрашивали, кто их будет там кормить, будут ли даны лопаты. То были студенты 1-го и 2-го курсов. Совсем юнцы. Такие ласковые, жалкие. Я успокаивал их как мог. Немного они поработали на противотанковых рвах. 13–14 июля всех студентов, как мне стало известно, отозвали в Смоленск. Одели их в шинели и направили в части или военные школы».
Массовый исход
27–28 июня население стало массово покидать Смоленск. Хотя в некоторых воспоминаниях говорится о том, что якобы было обращение по радио, призывающее горожан к эвакуации, на наш взгляд, это искажение памяти за давностью лет и субъективность восприятия тяжёлых событий. Вот, например, рассказ Ирины Константиновны Топкаевой, бывшей в начале войны маленькой девочкой: «Через пару дней по радио передали обращение к населению города. По оперативным данным, ожидаются мощные налёты вражеской авиации, поэтому необходимо покинуть город, чтобы переждать это в сельской местности, в 15 км от города. Хорошо помню, что в обращении речь шла также о помощи горожан в уборке урожая.
…Жара. Мы с мамой в сарафанчиках, с собой взяли прогулочную колясочку, куда положили вещи для малышки, но большую часть пути её несли на руках.
…То, что мы увидели на улице, было совершенно неожиданно: тысячи людей устремились из города с детьми, с каким-то скарбом. Казалось, все люди кричат:
– А-а-а! – сливается в сплошной рёв…
Вот вся эта ревущая масса людей, устремившаяся из города, начинает расступаться. Это нас обгоняет машина, доверху гружённая домашним имуществом… мелькнули листья фикуса в углу кузова… Интересно, далеко ли они уедут?
Встречная машина с военными не может продвинуться вперёд – так велик поток идущих из города. Он уже выплеснулся на обочины дороги…
Плач детей… крики… поиски потерявшихся… гудки машин… и яркое солнце над головой… Жара.
– Мама, посмотри, почему люди в зимних пальто, а мы в сарафанчиках? – спрашиваю неожиданно.
…Деревня Цыбульникикилометрах в 12 от Смоленска по дороге к Починку. Ночь. Мы стоим у стены дома, приютившего нас. Вдоль всего горизонта сплошное зарево. Это полыхает Смоленск. Неужели это всё-таки происходит с нами? Все молчат…»
Город в огне
Переломным моментом для Смоленска в начале войны, без сомнения, стала массированная бомбардировка города в ночь с 28 на 29 июня, во время которой выгорела значительная часть города. В ней участвовали самолёты-бомбардировщики Ju-88 и He-111 с использованием большого числа (по некоторым сведениям – до 2 000 штук) зажигательных бомб весом 1 кг. Комендант Смоленска Ф.М. Багреев вспоминал: «Ракеты при падении на крыши домов, на землю загорались, создавая очень высокую температуру. Крыши моментально загорались, прогорали, ракеты (зажигалки) падали на потолки верхних этажей зданий, и в течение нескольких минут уже горело всё здание и внутренность. В городе возникли большие пожары во всех районах.
Команды местной противовоздушной обороны, пожарные команды города и само население не были достаточно подготовлены к борьбе с зажигательными ракетами в таком большом числе, так как борьба (гашение горящих ракет разным способом и сбрасывание на землю) должна была вестись на крышах и чердаках зданий, что требовало особой подготовленности, а главное – мужества и бесстрашия людей, а также необходимых навыков и вспомогательных средств для этой сложной и исключительно тяжёлой борьбы. Город находился в огне. Всё это породило панику среди некоторой части населения.
В результате этого налёта, вызвавшего исключительно большие по силе и размерам пожары, длившиеся более суток, в городе выгорели улицы и даже кварталы. Был причинён не поддающийся учёту материальный ущерб городу. Остро встал вопрос с продовольствием.
Сейчас трудно вспомнить название выгоревших улиц, но особо сильно пострадал от пожара центр города. Витебское шоссе, Краснинская улица и шоссе в Ковалёвку и много других улиц справа и слева были окружены остовами сгоревших каменных зданий и печными трубами деревянных домов. Деревянных зданий в городе было больше, чем каменных. Во время пожара усилиями красноармейцев было спасено от пожара управление коменданта города, являющееся крайне необходимым для связи войск гарнизона и действующих частей. Вокруг него и напротив стояли трубы и стены сгоревших зданий, в том числе стены большого пятиэтажного здания – дома Героев железного потока, бывшего штаба 11-го стрелкового корпуса, которым командовал легендарный комкор Е.И. Ковтюх, герой «Железного потока» Серафимовича.

Город после пожара опустел. Население выбралось из него за пределы города в ближайшие безопасные населённые пункты. Жители появлялись в городе лишь днём с целью навестить свои оставленные квартиры, если они остались целыми, или посмотреть на пепелища домов, в которых были их квартиры, и поплакать…»
А вот свидетельство смолянина Виталия Ивановича Бухтеева: «В ночь на 29 июня мы в деревне услышали глухие, но уже знакомые звуки: опять бомбили Смоленск. На горизонте занялось зарево. Город горел. Та короткая летняя ночь показалась мне бесконечной. Что стало с городом? С рассветом зарево поблекло и совсем исчезло.Мыс братом пошли в Смоленск. Город трудно было узнать. Там-сям мрачно чернели закопчённые каменные коробки. С пепелищ тянуло удушливой гарью. Дымное облако накатилось на нас, когда мы подошли к Дому с часами. Это был уже не дом, а каменный остов. От часов осталась только металлическая оправа, которая висела над землёй, пугая пустыми глазницами. Часы, которые всегда казались неким живым существом, были убиты. Словно само время остановилось! Путь нам преградила плотная дымовая завеса. Взявшись за руки, мы с братом нырнули в чёрную тучу, припавшую к земле, надеясь проскочить сквозь неё. Резкой болью обожгло глаза. Разумней было вернуться. Мы так и сделали. Добираться до Рачевки пришлось кружным путём».
Решением бюро обкома...
Массированная бомбардировка Смоленска в ночь с 28 на 29 июня и катастрофические пожары, вызванные ею, стали большим испытанием для всех городских организаций и их руководителей. Вопрос о работе пунктов местной противовоздушной обороны был рассмотрен на заседании бюро Смоленского обкома ВКП(б) 2 июля 1941 года, в решении указывалось:
«1. Отметить, что тов. Вахтеров как начальник МПВО не принял достаточных мер к организации МИВС, вследствие чего в городе сгорело свыше 600 жилых домов, а с учётом складских и других строений свыше тысячи.
- Предупредить т. Вахтерова, что если им не будет перестроена работа пунктов МПВО и будет допущен пожар хотя быодного дома, то он будет привлечён к суду ВРТ (Военно-революционный трибунал. – Прим. ред.).
- Поручить члену бюро обкома ВКП(б) т. Иванову разобраться с недостатками работы пунктов МПВО и свои соображения об устранении недостатков представить на рассмотрение т. Попову к 12 час. дня 3.VII. с.г.
- Предложить Смоленскому ГК ВКП(б) рассмотреть вопрос о поведении председателя Сталинского райсовета т. Белова, допустившего использование автомашин для спасения своего имущества в ущерб государственным интересам, и поведении в работе работников командных пунктов Кабаева и Игнатьева и привлечь их к ответственности.
- Обязать тов. Мозина лично бывать на командном пункте МПВО и обеспечить его нормальную работу».
Областное руководство вину за катастрофические последствия бомбёжки Смоленска возложило на низовых руководящих работников. В Государственном архиве новейшей истории Смоленской области сохранилось заявление председателя Сталинского райсовета города Смоленска Г.Н. Белова от 4 июля 1941 года на имя секретаря Смоленского обкома ВКП(б) Д.М. Попова, в котором он описывает события, за которые его подвергли суровым наказаниям: «3 июля 41 г. бюро Смоленского горкома ВКП(б) вынесло решение исключить меня из рядов ВКП(б), с работы снять и передать дело военному трибуналу за то, что я, будучи начальником МПВО 2-го района, 29/VI.41 г. отпустил значительную часть формирования МПВО на устройство своих семей после пожара и на приобретение продуктов питания и в этот же день вывез свою семью, 3 детей, жену, с некоторыми домашними вещами, в колхоз Смоленского района на автомашине МПВО.
Причины, побудившие отпустить бойцов МПВО, следующие. Формирование было собрано 22/VI, и постоянно дежурило 1/3, и 2/3 работало в предприятиях и учреждениях и по сигналу В.Т. являлось по местам сбора, ни один боец отлучаться не имел права.
28/VI после усиленной бомбёжки и пожаров все команды МПВО работали усиленно всю ночь и утром на тушении пожаров.
Во второй половине дня 29/VI, когда в основном пожары были ликвидированы, усталые, не евшие и погорелые бойцы МПВО потребовали от меня отпустить их на устройство семей после пожаров, т. к. многие семьи сидели с вещами на Киевском шоссе и около самих бойцов, а также потребовали вооружить их и накормить.
Я разъяснил бойцам, что удовлетворить их просьбу я не имею возможности и не имею права без разрешения МПВО города.
Долго я разыскивал по городу руководителей МПВО города и руководителей города, но не нашёл, а нашёл начальника штаба МПВО города т. Кабаева и доложил ему о настроении бойцов и об обстановке.
Т. Кабаев принял решение отпустить бойцов до 18 час.вечера. Я объявил это решение бойцам, они остались недовольными, т. к. это время их не устраивало, и послали свою делегацию к Кабаеву.
Мы втроём, я, т. Кабаев и его помощник Коротков, решили обратиться по этому вопросу в НКВД к т. Орлову, но его мы не нашли и решили отпустить, за исключением пожарной команды и частично команды управления, не занятых в это время на работе, за это был я и пом. нач. штаба т. Коротков, а т. Кабаев занял позицию ни да, ни нет, чтобы не нести ответственности.
Что же касается отправки семьи, я вынужден был отправить ее на автомашине МПВО, т. к. иного транспорта я не мог найти, и она тоже находилась на Киевском шоссе. К тому же все 5 автомашин в это время были не заняты.
Решение бюро горкома считаю слишком суровым, я такого наказания не заслуживаю, поэтому прошу пересмотреть это решение и оставить меня в рядах нашей партии».
«Прошу вас решить справедливо...»
А вот хранящееся в том же архиве заявление в ЦК ВКП(б) и Смоленский обком ВКП(б) ещё одного пострадавшего – инструктора Смоленского горкома ВКП(б) В.В. Фещенко. Он описывает общую картину происходившего в Смоленском горкоме ВКП(б):
«2 июля с/г. состоялось решение бюро Смоленского горкома ВКП(б) обо мне: «Исключить из партии и передать ревтрибуналу как дезертира».
С начала войны, т. е. с 22 июня, я день и ночь безотлучно был в горкоме ВКП(б). В период бомбардировки я был в ГК и никуда не уходил. Для охраны горкома мы имели ручной пулемёт и винтовки. Однако после первой бомбардировки секретари ГК ВКП(б) тт. Мозин, Шееров и Вишневский вечерами уезжали за город и брали с собой это вооружение. Я выражал своё возмущение вслух среди работников ГК, что они, бросая город и ГК, беря с собой вооружение, предназначенное для охраны горкома, больше беспокоятся о своей личной жизни и меньше о городе и ГК. Возможно, это получилось резко, но в этих действиях я видел несправедливость. 25 или 26 июня в ГК были представители из Москвы, товарищи из СНК СССР и НКВД СССР. Они очень долго сидели в приёмной секретарей. Я тоже выразил возмущение, т. к. считал, что эти т.т. приехали к нам, чтобы оказать помощь в обороне города. В беседе с ними я передал им желание коммунистов, которые требовали вооружения всех способных носить оружие для оказания помощи милиции НКВД, однако этот вопрос не находил быстрого решения в городе. Они обещали этот вопрос разрешить. Но на следующий день это разрешалось очень медленно. Вечером, накануне сильнейшей бомбардировки, т. Мозин и т. Вишевский, взяв пулемёт и винтовку, уехали за город. Я, т. Васильева, Горниенков и др. остались в горкоме. Из здания я вышел последним, когда уже горела библиотека парткабинета и госпиталь. После бомбёжки пришёл т. Тихонов (заведующий военным отделом), и мы стали вытаскивать документы и вещи. Утром подошёл т. Шееров, позднее т. Мозин.
Вначале было решено, что я еду с машиной, где были наши вещи, но потом т. Мозин приказал мне сесть в легковую машину и охранять её. Потом мы уехали за город (Мозин, Вишневский, Шееров, Цейтлин и я). Трижды мы уезжали из города и вновь возвращались. Тов. Мозин собирался звонить в Москву, чтобы узнать, что делать. Волнение было большое. Потом, оставив нас, Цейтлина и меня на областном стадионе, предложили ожидать их, но прошло три часа, и мы их не дождались. Пошли в город. При обстреле бомбардировщика мы пошли за город, где решили, что тов. Цейтлин будет разыскивать своих детей, а я пойду вслед за машиной ГК, надеясь встретить и вернуться в Смоленск. Добрались мы до Присельского с/с Рославльского района и тут же позвонили в горком партии. Там был секретарь обкома партии т. Пайтеров, который сказал, что машина уже далеко и нам нужно вернуться в город. Мы просили его содействия, и он пытался нам его оказать. 30/VI мы не нашли машины, которая бы нас довезла до Смоленска, и тов. Пайтеров предложил выехать нам в Рославль. Оттуда было легче выбраться нам в Смоленск, там мы встретили т. Денисова и с ним два человека (облпарткурсы), которые тоже стремились выехать из Рославля. И только 2 июля нас взяла военная машина. В этот же день я приступил к работе. Отсутствовали и другие инструкторы на работе по 2 дня (г. Горошенков), однако это окончилось общим разговором. Я же за весь мой партстаж ни разу не подвергался партвзысканиям, и это является для меня большим ударом. Почему так легко меня лишают партийного билета и жизни, в то время как для меня они стоят очень дорого. Безусловно, я виноват и заслуживаю серьёзного взыскания.
Сейчас я потерял семью, дочь и больная мать ушли во время бомбардировки, и я не знаю, где они, квартира сгорела со всем имуществом. Прошу Вас решить справедливо этот вопрос».
Поддавшись волне паники
Было наказано и руководство Заднепровского района, свидетельствуют архивные данные. На заседании бюро Смоленского обкома ВКП(б) 2 июля 1941 г. секретари Заднепровского райкома ВКП(б) Потапенко и Ф.Я. Макаров были обвинены в том, что «29 июня 1941 г. после ночной бомбёжки гор. Смоленска фашистскими палачами под предлогом спасения партийных документов сбежали из гор. Смоленска в гор. Вязьму, бросив на произвол Заднепровский район, тем самым проявили трусость, паникёрство, внесли панику и вернулись в гор. Смоленск по предложению секретаря обкома ВКП(б) г. Богданова». Наказание было типовым – снятие с работы, исключение из членов ВКП(б) и передача материалов в военный трибунал. На этом же заседании был рассмотрен вопрос и о поступке заведующего транспортным отделом Смоленского обкома ВКП(б) Г.Н. Железнякова, который «после ночной бомбардировки города вражескими самолётами сбежал в гор. Ярцево и возвратился в гор. Смоленск только 1 июля 1941 г., проявив трусость и паникёрство». Наказание вынесено по стандартной схеме.
Сегодня уже сложно давать категоричные оценки поступкам людей, оказавшихся в экстремальной ситуации горящего города, но очевидно, что первые лица Смоленска и области вели себя не лучше своих подчинённых, поддавшись общей волне паники и дезориентации.
Юрий ШОРИН
Фото: открытые источники