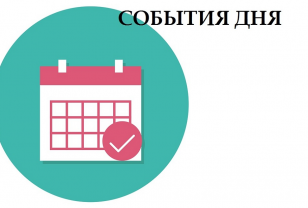И пошла писать губерния… Клады и кости
Публикация, с которой «Смоленская газета» предлагает познакомиться читателям, подготовлена краеведом Алексеем Куйкиным, уже знакомым нашей аудитории. Материалы подготовлены на основе документов, хранящихся в Государственном архиве Смоленской области, и посвящены теме, которая и сегодня волнует многих из нас, ведь клады всё еще скрываются в древней, богатой на события смоленской земле. О них и пойдёт речь в заметках, публикуемых нами с разрешения коллег из научно-популярного журнала «Край Смоленский».

Ценности из курганов
Перенесёмся в год одна тысяча осемьсот семидесятый от Рождества Христова на земли дворянской девицы Елизаветы Кардо-Сысоевой, что в девяти верстах от заставы губернского города Смоленска. Вообще-то с Кардо-Сысоевыми связан у меня один интересный случай, больше имеющий отношение к казусам российской судебной системы. 1855 год, между Уфиньей и Корытней на Краснинском большаке ограбили и избили дворовую женщину госпожи Кардо-Сысоевой. Отобрали деньги и какие-то вещи её госпожи, которые дворовая куда-то там несла. Становой пристав произвёл следствие, по описанию нападавшего нашёл похожего мужика и произвёл у него обыск в доме. Ни вещей, ни денег не нашёл, однако приказал сотскому доставить мужичка в Смоленск для суда. И укатил в город. Сотский повёз односельчанина в суд. Уж не знаю, о чём они там гуторили, но конвоируемый попытался сбежать. Сотский, как мог, его ловил. И поймал. В порыве к свободе наш преступник искусал сотскому все руки. Да до крови, вот ведь паразит эдакий. Вердикт суда: в ограблении дворовой женщины госпожи Кардо-Сысоевой «оставить в подозрении», а за покусание рук сотскому отправить в арестантские роты гражданского ведомства на один год и девять месяцев. Во, блин, дают!
Ну да мы отвлеклись. 11 июля вблизи казарм Орловско-Витебской железной дороги (можно сказать, кладообразующего предприятия Смоленской губернии) рабочие брали балласт для продолжения строительства железнодорожных путей. Склон одного из курганов обвалился, явив мужикам заржавленный медный котелок с мелкими костями внутри. Также в оном котелке обнаружилось медное колечко с пластинкою и две медные же «спички». Через несколько минут ремонтный рабочий крестьянин деревни Нивищ Боровской волости Смоленского уезда Демьян Аксёнов, раскапывая обвалившийся склон, обнаружил глиняный горшок, в котором также были кости и пепел. Вскоре в том же кургане откопали ещё один медный котелок. Но рабочим, копавшим камень для строительства рядом с тем курганом, повезло в тот день много больше. Вырыли они большую кость с насыпанными внутрь древними серебряными монетами и серебряными же украшениями.
Смоленские мужички – люди ушлые да домовитые, посему попытались получить от находок максимальную выгоду, частью рассовав серебришко по карманам, частью продав служащим при станции Смоленск Орловско-Витебской дороги машинисту Шустеру, помощнику его Ямбургу и обер-кондуктору Бельдюкевичу. Но всё ж таки до уездного полицейского управления сведения о кладе дошли. И уже 15 июля пристав 1-го стана Смоленского уезда произвёл дознание, отобрав у рабочих помимо медных котелков и разбившегося глиняного горшка три целых серебряных монеты, 53 треугольных серебряных обломка, судя по всему, тех самых «резан», восемь серебряных и двадцать три стеклянные бусины-крали. Также были запротоколированы медное колечко, сломанная пуговичка и две медные монеты с ушками. О покупке служащими железной дороги некоторых вещей из клада приставом было сообщено в рапорте на имя начальника жандармского управления на железной дороге капитана Сосионкова, который вскоре представил смоленскому губернатору ещё две серебряные монеты. Среди найденного крестьяне упоминали также небольшой серебряный браслет, но заявили, что он был в таком ветхом состоянии, что рассыпался прямо у них в руках.
11 августа 1870 года смоленский губернатор отправил клад в столицу в распоряжение Археологической комиссии. Оная комиссия оценила находки в 10 рублей, каковые и были направлены казначейской ассигновкой в Смоленск 27 ноября. Но только в апреле следующего года деньги, за вычетом 15 копеек за пересылку, были переданы в Смоленское уездное полицейское управление для выдачи «по принадлежности». Из материалов дела только одно остаётся непонятным: кому именно было выдано вознаграждение. Возможно, дворянской девице Кардо-Сысоевой как владелице земли, где найден клад, а возможно, и нашедшим ценности крестьянам. Тайна сия велика есть.
Клад из Ельнинского уезда и бесчинства уездного исправника
Ровнёхонько через два года, 11 июля 1872 года, клад, найденный крестьянами при распашке в Ельнинском уезде, всколыхнул сонный уездный городок. Самый серьёзный шторм бушевал в уездном полицейском управлении. Тут надо немного разъяснить диспозицию. С 3 мая 1872 года уездный исправник Хоменев самоустранился от службы, переложив обязанности на своего помощника. Видимо, тяготы и скука полицейской работы в мелком уездном городке толкнули исправника в объятия «зелёного змия». Ельнинское уездное полицейское управление худо-бедно работало без чуткого руководства своего начальника. И тут грянуло, хотя ничто не предвещало. Пристав первого стана Ельнинского уезда представил в управление при собственноручно составленном рапорте клад мелкой серебряной монеты допетровского чекана, общим количеством аж 1753 штуки. Помощник уездного исправника Сумило-Самуйло поступил, как и подобает правильному чиновнику Российской империи, а именно обратился к «руководящим документам», где в 1-й части 539-й статьи Х тома Свода законов Российской империи и в прилагаемых к оной «Правилах о находках» была чётко прописана дальнейшая судьба найденного серебра.
Пересчитав и взвесив серебряную «чешую», полицейские чиновники отобрали 10 монеток в качестве образца для отправки смоленскому губернатору. По правилам, клад должен был быть передан на хранение в уездное казначейство, а так как монеты чекана после XIII века не считались по закону археологической редкостью (вот так да!), то уездное полицейское управление должно было организовать торги по продаже найденного клада, для чего нужно было трижды оповестить в губернии всех желающих через «Смоленские губернские ведомости» и изустно обывателей уездного городка Ельня. И так бы оно и произошло, но слух о найденном кладе вырвал из объятий Бахуса уездного исправника. Каковой субъект явился в полицейское управление и принялся командовать. Ничего, мол, в казначейство не передавать, весь клад отправить губернатору, а до отправки хранить два фунта сорок пять с половиной золотников серебра в денежном ящике управления. А разгильдяй пристав 1-го стана должен немедленно начать новое дознание и представить для отправки губернатору полный рапорт о точном месте находки клада и лицах, его обнаруживших. В пьяном угаре наорав на подчинённых, исправник вернулся к бутылке с полугаром.
Судя по всему, за пару месяцев отсутствия начальства на рабочем месте уездные полицейские отвыкли от такого с собой обращения. И взыграло, и закипело. Помощник исправника Сумило-Самуйло накатал губернатору такой рапорт о кладе, что служить исправнику Ельнинского уезда долго бы не пришлось. А «ценные указания» пьяного начальства полицейские чиновники при всём желании выполнить бы не смогли. У уездного полицейского управления не было средств ни для отправки клада в губернский город, ни на обеспечение должной охраны ценностей в пути. Да и просто положить древние монетки в денежный ящик управления, как приказывал исправник, не представлялось возможным. Хоменев как-то позабыл, что неделю назад своим распоряжением, видимо, не выходя из запоя, разрешил двенадцатидневный отпуск приходо-расходчику правления столоначальнику Лебедеву. А тот не озаботился передачей денежного ящика кому бы то ни было, да и вовсе унёс с собой ключи от железного сундука. В результате серебро принял под свою ответственность секретарь уездного полицейского управления Белошицкий, а в канцелярию смоленского губернатора было отправлено десять монеток при рапорте о найденном кладе и о бесчинствах уездного исправника, подписанном Белошицким и Сумило-Самуйло.
Канцелярией губернатора десять «чешуек» были отправлены в столицу, в Археологическую комиссию, члены каковой были просто счастливы. Ведь в представленных образцах оказались монеты Ивана Грозного, Фёдора Иоанновича, Бориса Годунова, Лжедмитрия Первого и Михаила Фёдоровича. В Смоленск была послана ассигновка на полтора рубля за десять монет и просьба губернатору узнать у нашедших клад крестьян, не продадут ли оные оставшиеся 1743 серебрушки за 100 рублей серебром. Ох, «товарищи учёные, Евклиды драгоценные, Ньютоны ненаглядные», правильно про вас писал Владимир Семёнович, «замучились вы с цифрами, запутались в нулях…» Да за эти сто рублей четверо крестьян деревни Галашино Дубосищенской волости сами вам эти монеты в столицу принесут, пешком.
Переписка канцелярии губернатора с Ельнинским уездным полицейским управлением затянулась. Только в мае следующего, 1873 года в Смоленск пришёл подробный рапорт с описанием места находки клада на землях деревни Галашино, неподалёку от леса помещицы Марфы Ивановны Кузеневой и речки Волости. К рапорту была приложена расписка находчиков клада, крестьян Ивана Лазарева, Григория Васильева, Федота Наумова и Макара Пименова, об их согласии продать 1743 серебряных монеты допетровского чекана Императорской Археологической комиссии за сто рублей серебром. В двадцатых числах июля в губернский город доставили и сам клад. В январе 1874 года в Ельнинское уездное казначейство поступила ассигновка на 100 рублей серебром для выдачи галашинским крестьянам. И только 4 мая 1874 года новый помощник уездного исправника Попов отправил в Смоленск рапорт о выплате причитающегося вознаграждения находчикам клада за вычетом двух с полтиной рублей за пересылку. О судьбе Хоменева, Сумило-Самуйло и Белошицкого мне, к сожалению, ничего узнать не удалось. Запись о кладе
Запись о кладе
В конце мая 1879 года в столичный департамент общих дел Министерства внутренних дел Российской империи поступило прошение от вяземского мещанина Ивана Лютова, каковой сообщал об открытом им кладе и просил разрешения его выкопать. Чиновники даже и не удивились, ибо хорошо знали, что широка Россия и дураков в ней видимо-невидимо. Посему, заметив на прошении отсутствие гербовых марок, положили дело под сукно, отписав, однако ж, смоленскому губернатору, что прошению Ивана Родионовича Лютова, проживающего в Вязьме, на Калужской улице, в доме Перина, ход дан не будет, пока он не представит в министерство гербовые марки на 1 рубль 20 копеек серебром либо квитанцию от казначейства о внесении этих денег, о чём и просили губернатора уведомить Лютова через полицию.
19 июня вице-губернатор Хрущов подписал отпуск из канцелярии смоленского губернатора, в коем приказывал вяземскому уездному исправнику довести информацию до Ивана Лютова, а также провести дознание об открытом им кладе. И уже 28 июня гербовые марки были присланы из Вязьмы в Смоленск.
А Министерство внутренних дел не могло ответить Ивану Лютову, не имея никаких сведений по делу, кроме его прошения. Чиновники писали смоленскому губернатору, губернатор отписывал вяземскому исправнику, а исправник всё проводил и проводил дознание. И только в середине сентября на стол губернатора лег подробный рапорт о вяземском кладе.
Исправник Исаков сообщал, что проживающий в Вязьме отставной штабс-капитан Винтер в прошлом, 1878 году составил сообщество по поиску кладов из семи человек. Каждый внёс в общую кассу по 100 рублей. Винтер показывал всем перешедший ему от умершего брата документ, якобы являвшийся списком с некоей медной доски, на которой были указаны приметы зарытых под Вязьмой кладов. В тексте указывалась пустошь Хмелевки и некие «пограничные ямы». Восемь дней поисков и раскопок ничего не дали, и концессионеры решили, что документ Винтера не более чем вымысел. Почему Иван Лютов так уверен в том, что сможет отыскать клад, вяземский исправник не знает.
После обширной переписки с канцелярией смоленского губернатора департамент общих дел Министерства внутренних дел дал разрешение вяземскому мещанину Ивану Родионовичу Лютову отыскивать клад, соблюдая условия, оговоренные в законах империи. Более никаких сведений о кладе Ивана Лютова в архивных документах не имеется.
Клад деревни Захарино
В конце мая 1883 года крестьяне деревни Захарино Владимировской волости Смоленского уезда при полевых работах нашли в принадлежащей им земле клад серебряных монет допетровского чекана весом 2 и 3/8 фунта (чуть больше килограмма). Буквально на следующий день клад купил за 35 рублей священник села Владимирское Евграф Зысков. Надо сказать, прогадали находчики, ежели смотреть на ельнинский клад 1872 года примерно того же веса, прогадали. Да не в том суть. Уже 25 мая пристав 2-го стана Смоленского уезда доложил уездному исправнику о проведённом дознании, а также о том, что он, пристав, обязал священника Зыскова представить купленное серебро исправнику.
30 мая исправник рапортом доложил губернатору о кладе, но присовокупил, что монеты оказались XV века и на основании пункта 16-го статьи 539-й Х тома части 1-й Свода законов Российской империи оставлены в распоряжение священнику.
14 июня смоленский губернатор письменно известил о находке Министерство внутренних дел и Императорское Русское археологическое общество, сославшись на те же статьи закона. А 23 июня в канцелярию смоленского губернатора пришёл запрос из Императорской Археологической комиссии, каковая просила прислать найденный клад в столицу, ссылаясь на параграф 6-й Высочайше утверждённого положения об этой самой комиссии и циркуляр министра внутренних дел от 31 июля 1882 года.
Делать нечего, приказом губернатора клад у священника Зыскова изъяли и отправили в Санкт-Петербург. Каково же было удивление губернских канцеляристов, когда в конце августа из Археологической комиссии сообщили, что никакого клада они до сих пор не получили. Вице-губернатор Хрущов, как следует подумав, решил, что виновата, как всегда, почта. Управляющему почтовой частью по Смоленской губернии был отправлен из канцелярии губернатора отпуск аж на трёх листах, общим смыслом крайне простой: посылка от губернатора почтой принята, по адресу до сих пор не пришла, ищите.
Начальник смоленских почтарей связался со столичным почтамтом. Столичная почтовая контора к концу сентября донесла до смоленских коллег, что посылка и депеша, её сопровождающая, от смоленского губернатора прибыли в Санкт-Петербург и через 6-е отделение доставлены по адресу и под расписку переданы коллежскому секретарю Савенкову, каковой имеет честь служить в Императорском Русском археологическом обществе, адрес и наименование какового и были указаны на посылке. Об эдаком форс-мажоре канцелярия смоленского губернатора и уведомила Императорскую Археологическую комиссию. И всё для того, чтобы получить в октябре ответ, что найденные у деревни Захарино серебряные копейки великих князей московских Ивана Третьего и Ивана Четвёртого не имеют большой нумизматической ценности и могут быть переданы священнику Зыскову. А ведь прав был его благородие господин смоленский уездный исправник: стоило ли огород городить?
Выпаханный клад
Смоленщина всегда находилась в зоне рискованного земледелия, но иногда радовали крестьян урожаи. Вот и в августе 1883 года на поле при деревне Большие Деревенщики Полежакинской волости для сбора «урожая» вышло практически всё свободное население. Ведь порадовала земелька местных крестьян ни много ни мало серебришком, да в большом количестве. Пахал, значит, мужик местный Артемий Ульянов надел свой под озимые. Ан в борозде-то большие беленькие монетки углядел, аж 10 штук. Потом вокруг ишо мелких насобирал. А уж опосля, как мужики да бабы на поле-то высыпали, монетки те да пособрали, так на безмене-то три фунта серебра и намерили.
31 августа 1883 года Дорогобужское полицейское управление рапортом доложило смоленскому губернатору о найденном кладе и представило в качестве образца десяток разнообразных монет. Клад полиция собиралась оставить находчикам, как в законе прописано. Однако ж через неделю дорогобужские стражи порядка получили грозную депешу из Смоленска, в каковой им указывалось на невнимательность в плане изучения новых постановлений Государя Императора и Правительствующего Сената, а также имелось требование прислать весь найденный клад в губернский город для отправки в Археологическую комиссию.
1 октября клад, отобранный полицейскими у местного помещика Николая Михайловича Огдановича (интересно, сами ему крестьяне серебро принесли или он просто первым подсуетился выкупить клад), был доставлен в Смоленск. Клад оказался общим весом три русских фунта, а счётом 2780 мелких монет и 2 крупных (вот так так, а где ж ещё десяток крупных, что в первом рапорте дорогобужской полиции прописаны? Непорядок!). Клад был отправлен в Археологическую комиссию, каковая не признала за русскими серебряными копейками и двумя польскими монетами большой нумизматической ценности. Огдановичу было предложено через канцелярию смоленского губернатора передать клад для переплавки на Монетный двор. За это Императорская Археологическая комиссия предлагала помимо стоимости собственно серебра заплатить владельцу клада ещё треть сверху. Николай Михайлович дал дорогобужскому исправнику подписку о согласии и 1 февраля 1884 года получил в дорогобужском казначействе 58 серебряных рублей (стоимость переданного на Монетный двор серебра) и 19 рублей 37 копеек ассигнациями (вознаграждение от Археологической комиссии 20 рублей, за вычетом расходов на пересылку). А какую сумму помещик заплатил крестьянам Больших Деревенщиков за найденный клад, тайна сия велика есть.
Клад из ямы
Насколько всё-таки проще полицейским и другим чиновникам в Смоленской губернии было общаться с военными, пусть и отставными. Всё четко, по уставу, на ать-два, нале-во кру-гом, под барабанный бой шагом арш! Нанятые числящимся в запасе армейской кавалерии генерал-майором Яковом Дмитриевичем Броневским плотники при ремонте приходской школы в селе Николо-Погорелом, копая ямы под столбы, обнаружили клад. Броневский серебро изъял, взвесил (оказалось 19 унций аптекарского веса), пересчитал (1688 штук) и представил 28 января 1885 года в Дорогобужское уездное полицейское управление.
Чины уездной полиции показали свою осведомлённость в новых постановлениях Правительства, что касаемо кладов, и переслали всё серебро смоленскому губернатору. И 9 февраля клад уехал в столицу, к Императорской Археологической комиссии. Комиссия признала русские копейки из клада не имеющими нумизматической ценности и приговорила их к отправке на Монетный двор, но в целях поощрения находчиков кладов к представлению оных губернскому начальству отправила в Смоленск ассигновку на 37 рублей 75 копеек серебром (сумма, вдвое превышавшая стоимость собственно серебра как металла в кладе). Сии денежные средства должны были быть вручены генерал-майору запаса, ежели он решит оставить клад в ведении Археологической комиссии. Учёные мужи также объявляли смоленскому губернатору, что готовы незамедлительно вернуть клад владельцу, если он возымеет желание оставить себе древние монеты.
6 апреля 1885 года генерал-майор Броневский дал становому приставу подписку в том, что отказывается от приза, простите, клада, и берёт деньги. Каковые и получил 13 апреля в дорогобужском казначействе. Ать-два, левой!
Продолжение следует
Алексей КУЙКИН
Фото: предоставлено автором